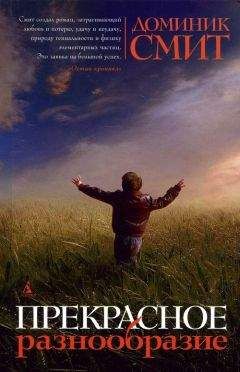Юозас Балтушис - Проданные годы [Роман в новеллах]
Старая Розалия, достав из-под стрехи освященные травы и набросав их в горшок с калеными углями, ходила с этим горшком по хлевам, окуривала каждой корове морду и вымя: чтобы дурной глаз не сглазил и молока больше давали. Окурила и меня, схватив за ворот.
— Благополучно выгнать и благополучно пригнать, и благослови, господь бог, нашу скотину… И тебя, негодника! — приговаривала она, тыкая меня носом в курящийся горшок.
Взял я свитый для меня Йонасом кнут с кисточкой и можжевеловым кнутовищем. Выгнал коров из хлева. Хозяйка бежала за мной по двору, совала за пазуху краюху хлеба с солью и повторяла:
— Чтобы молоко гуще было!
Я выгнал скотину. Застоявшиеся за зиму коровы бегали по вязкому полю, бодались как ошалелые. Огромный пестрый бык, мыча и кося на меня налитым кровью глазом, рыл землю. Не успел я оглянуться, как все стадо разбрелось кто куда. Овцы с блеянием бежали к лесу, телята скакали к ручейку Уосинта. Растерявшись, глотая злые слезы, бегал я от одного края поля к другому, безуспешно стараясь согнать всех в кучу. Измучился я, разгорячился, истек весь потом, а стадо еще больше разбегалось…
Йонас пахал, выбирая места повыше и посуше. Скворцы вперевалку провожали его целой вереницей по борозде, хватали толстых красноголовых гусениц. А за скворцами шли и вороны, время от времени взлетая и вступая между собою в драку. Йонас довел борозду до конца гона, остановил лошадей у луга, поманил меня.
— Чего носишься по полю? — спросил сердито. — Силу тебе некуда девать? Садись вон там на камень и сиди!
— Сам ты носишься! — отрезал я. — Или не видишь, что делается?
— Эх ты, клоп, — рассмеялся он. — Сразу видать: первогодок. Пусть их бегают, пусть скачут. Простоял бы ты всю зиму в закрытом хлеву, и сам бы теперь скакал, задрав хвост. Побесятся и в кучу соберутся. Животина — тот же человек, она любит кучкой держаться. Садись, говорю, сиди и посвистывай.
И подтолкнул меня к большому камню. Сам сел рядом, свернул цигарку. Скворцы и вороны стояли по краям борозды, повернув головы, глядели на Йонаса — ждали, когда опять начнет пахать.
— Чем бегаючи полы обивать, лучше бы с пастушонком Паулюкониса согнали скотину вместе. Вон, — показал рукой в сторону маячащего вдали хутора, — недалеко от дома пасет. Летом, когда выгоните скотину в лес, с ним будешь пасти. Потому заранее надо согнать: познакомитесь с ним, и коровы пусть отбодаются.
Глубоко затянулся дымом, поднялся и, понукая лошадей, пошел мерным шагом за плугом. А за ним опять двинулась вся вереница скворцов и ворон — скок-скок…
Подогнал я стадо ближе к усадьбе Паулюкониса. Издали окликнул пастушонка. Он прибежал, запыхавшись, размахивая длинными рукавами сермяги, и остановился передо мной, видимо не зная, что сказать.
Был он намного меньше меня ростом — щупленький, неказистый мальчик с темными и курчавыми, как ягнячья овчинка, волосами, с беспрестанно мигающими глазами. Сермяга чуть не до пят, на голых ногах деревянные башмаки, щиколотки почернели от грязи до лоска — хоть картошку сажай.
— Ты откуда будешь? — спросил я.
— Оттуда… — махнул он рукой в сторону леса.
— Откуда — «оттуда»?
— В Палаукишкяй мама живет.
— А отец?
— Отец в окно выскочил.
— Как так выскочил?
— А я знаю? Выскочил — и нет его. Мама так сказала.
Вдруг он беспокойно дернул плечами, сунул руку за пазуху, почесал там и вытащил горсть сенной трухи.
— Я на сеновале сплю, — пояснил. — Хорошо там. Зароешься с головой в сено, согреешься… Только сено всюду налезает. Вот!
И опять вытащил горсть трухи, уже побольше первой.
— Зачем на сеновале? Или в избе места нет?
— Место бы нашлось, да хозяйка говорит, я вшей развожу.
— А зимой? Холодно ведь зимой на сеновале!
— Зимой я за печкой спал, но хозяйка осерчала — вшей, говорит, разводишь в доме, иди-ка на сеновал.
— Чего же она так осерчала? — спросил я, досадуя, что он так медленно рассказывает.
— Раньше она меня сажала за стол. И меня сажала, и своих ребятишек сажала. Всех вместе сажала, наравне. Только шкварки из подливки накладывала на блины не поровну. Всегда так подложит, что на их стороне хлюпает, а у меня — сухо. Вот я взял раз и повернул жиром в свою сторону. Сейчас же все ее ребятишки — в рев. Хозяйка налетела… — Он заморгал, умолк.
— Била тебя?
— Не очень… Теперь я ем у порога, на конике[16]. Поем и иду на сеновал. На сеновале…
— Стя-пу-кас! — донесся женский крик от дома Паулюкониса. — Куда тебя черт поне-ес?
Стяпукас вздрогнул, схватил свою хворостину.
— Я побегу, — прошептал он.
— Завтра пригоняй сюда стадо.
— Пригоню, пригоню! — крикнул, пустившись бегом по полю.
И верно, пригнал. Наши коровы пообвыклись, перестали бодаться, рядом щипали молодую траву. Мы со Стяпукасом делали свирели из ивовой коры и дудели, усевшись друг против друга на камень.
На полях копошилось все больше и больше народу. Йонас пахал и боронил целыми днями. Теперь он не выбирал мест повыше. Вся земля просохла, даже побелела на буграх. Хозяин сеял, а Она отмечала пучками соломы засеянное. Так всю неделю. А по воскресеньям Йонас опять бежал в волость и опять возвращался ни с чем. Видели, оба мы со Стяпукасом видели, как на загорелое лицо Йонаса легла темная тень. И ходить он начал медленнее и опустив голову, будто искал что-то на земле, будто разглядывал свои ноги.
Так прошло несколько недель. Обремененные семенами пашни уже покрывались свеже-зеленым пухом яровых, буйно росли ржаные всходы, сплошной стеной вымахала озимая пшеница. И все меньше оставалось места нашей скотине. Наконец однажды вечером хозяин сказал:
— Завтра выгонишь в лес!
Пасем мы со Стяпукасом в лесу. Лес большой, вдоль перерезан песчаной дорожкой. Направо от дорожки далеко раскинулся по холмам сосняк. Но холмы здесь не круглые, как обыкновенно бывают на полях, а продолговатые, словно большие валы: гора — долина, гора — долина. Будто хлынул в одну весну могучий водяной поток, взволновал землю, изрыл ее ложбинами, балками, перевалил через них и унесся дальше, куда-то к заросшим кустами болотам, к дальним озерам, а может, и к самому морю, о котором мне когда-то рассказывала учительница. А на размытой земле выросли сосенки: на гребнях валов — низкорослые, с раскинувшимися во все стороны ветвями, в долинах — повыше, потоньше, и стоят теснее. Стоят все и шумят, разливают вокруг запах смолы. А под корневищами, на скатах, нарыто множество круглых и глубоких ям, валяется почерневшая, полусгнившая солома, видны присыпанные хвоей колеи. Окрестные жители прячут здесь от зимних морозов картошку, свеклу, морковь и прочие овощи. Иногда прячут здесь трубы самогонных аппаратов, конечно, не от мороза, а от зоркого глаза полицейского.
Места по эту сторону дороги унылые, неприглядные, поросшие упругим вереском, чахлой, редкой травкой, не привлекающей ни глаз скотины, ни косу крестьянина. Лишь в самой глубине балок упрямо лезут из-под толстого хвойного покрова ранние «колокола»-боровики, лиловые сыроежки и золотистые козляки. Вылезут, постоят, подождут грибников, а потом дрябнут и загнивают, распространяя вокруг приторный запах прели. Даже птица здесь редкий гость: залетит какая-нибудь ворона или сорока-воровка, крикнет раза два и опять унесется назад. Один работяга дятел без устали долбит и долбит смолистую шишку, зажав ее в свой верстак в развилине сосны.
Совсем иное по левую сторону дорожки. Место низинное, обильное сыростью и перетлевшим до черноты перегноем, все покрыто буйной зеленью. Покачиваются высокие, прямые сосны, торжественно шумят косматые ели, стоит в одной сорочке береза, словно косарь летним утром, дрожит осина, точь-в-точь обиженная девка, а там, глядь, выстроился ясеневый молодняк, крушина ласкается с гибкою ветлою, а тут опять — низко спадают лоснящиеся косы ивы, тополь раскрыл смолистые почки, сбрасывает черная ольха прошлогодние сережки. А между ними всеми, словно богатый сват среди подгулявших поезжан, высится могучий ильм, широко расставив руки, гордо заломив шапку… На каждой лужайке, на каждой прогалине меж деревьями — трава по пояс. А где кончается трава, там сплошные ягодники — черника, ежевика, гонобобель, уже облитые дождем созревающих ягод. Внизу под деревьями, в кустах, пряно пахнет багульник. На солнечной поляне курят свои кадила валерьяна и ломкая таволга. Под сенью папоротников стелется плаун, подняв вверх двуперстые цветки, полные целебных спор…
А сколько здесь птах! Утром пригонишь стадо в лес — и остановишься в изумлении. Щебечет, поет, воркует, заливается каждый куст, каждая веточка на дереве. «Ева, Ева, не мни посева! Не мни посева!» — остерегает иволга. Там вскрикивает на лету хохлатая сойка; задыхаясь, кличет свою жену и непослушных детей в куст лещины дрозд. «Хе-хе-хе, хе-хе-хе!» — насмехается над ним долгохвостая сорока. «Оба дур-р-рни, дур-р-рни, дур-р-рни, оба дур-р-рни!» — отвечает им вяхирь, пролетая над верхушками елей. И вот опять слились все голоса, и неведомо, птицы ли это поют или росистые деревья шумят в утренней прохладе: гудит, звенит лес от края до края, прекраснее самого расчудесного органа в костеле, прекраснее всех песнопений за обедней и вечерней.